Фиш. Не надо песен
Майский вечер. Темнеет, зажигаются фонари и окна домов. Я выезжаю из ворот, качу по асфальтовой дорожке, сворачиваю на улочку, опять поворот – и вливаюсь в поток машин.
Мягко урчит двигатель, приборы на щитке подсвечены синим. Вставляю в музыкальный центр сольный диск Андрея Макаревича «И т.д.». Включаю функцию «в случайном порядке».
Плеск волн, далекий пароходный гудок и голос под гитарный перебор:
«Нашим лодкам не встретиться, видно, никак.
Унесло за большие дела, за беду.
Я с почтовыми рыбами шлю тебе знак,
Что по-прежнему жив и пока еще жду».
Я плыву по течению автомобильной реки. Мир разграничился тонированными окнами на «здесь» и «там», и по эту сторону я как в большом аквариуме из голубоватого стекла. Хотя, возможно, гигантский океанариум с домами, машинами и пешеходами-сомнамбулами – снаружи?
«Я, как прежде, в пути между «здесь» и «нигде»,
Я срываю цветы среди россыпи льда,
Я рисую гусиным пером по воде,
И движенья пера долго помнит вода».
Музыка затягивает. Мысли и чувства живут автономно, а тело без спешки выполняет привычные действия. Включаю левый поворотник, плавная дуга, притормаживаю перед светофором, жду, отпускаю тормоз… опять в потоке.
Время в салоне вязкое, густое, течет словно в другом измерении.
Оглядываюсь по сторонам.
Сибирский тракт. С этой улицы начинался путь, по которому когда-то брели в ссылку каторжники. Я поеду в обратном направлении.
«Я уже не прошусь ни к кому на постой,
Я смотрю на закат и плыву на Восток.
И порой старый Эльм, полоумный святой,
Зажигает на мачте моей огонек».
Улица Пионерская. Дом номер шесть слева – общежитие консерватории.
Длинный кирпичный забор артиллерийского училища. Перед центральными воротами две пушки времен второй мировой…
В начале восьмидесятых произошел случай: выпускники артучилища, получив новенькие лейтенантские погоны, разгулялись и ночью сняли пушку с постамента. И выкатили на трамвайные пути, что проходят недалеко от КПП. В пять утра вагоновожатая первого трамвая в ужасе протирала глаза – грозное длинноствольное орудие прямой наводкой целилось в лобовое стекло…
Советская площадь. Машин становится больше.
За улицей Искры, как всегда, пробка.
Парень с девушкой идут вдоль автомобилей с плакатом: «Вы можете оказать помощь инвалидам по слуху, купив…» Опускаю стекло, протягиваю полтинник. Получаю шариковую ручку и благодарный кивок.
Улица Абжалилова. Желто-белое здание — пятая общага КАИ. Когда-то здесь проходили забойные студенческие дискотеки. Местные вахтеры славились невероятной суровостью, и несколько раз, помню, приходилось лезть наверх по связанным простыням…
Пешеходы одеты уже по-летнему: мужчины в рубашках, девушки открыли незагорелые ноги. Старые вязы Арского кладбища подернуты нежно-зеленой дымкой. У ворот сидят бабушки с цветами.
…Мне позвонили ночью и я успел прилететь из Москвы. Вошел в квартиру, и она показалась мне незнакомой – везде горел свет, пахло лекарствами. Запах был резким, холодным, враждебным…
Макаревич запел:
«Пусть горе и печаль церковной свечкой тают,
Последнее «прости», последнее «прощай».
Не плачь, мой друг, не плачь — никто не умирает,
И не они, а мы от них уходим в даль».
…Меня провели в спальню. Профессор лежал под стареньким цветастым одеялом, маленькое лицо — бледное, неживое. Рядом на тумбочке пузырьки и упаковки с таблетками.
— Проходи, мой мальчик. Как хорошо, что ты…
Сухая рука в пигментных пятнах. Слабое пожатие.
— Что с вами, Профессор?
— Да ничего особенного… Моя болезнь называется «старость», какой бы диагноз не называли врачи.
Стеклянный бесплотный голос.
— Вы поправитесь.
— Постараюсь, но… похоже, мое время пришло.
«Пусть Бог нам положил до времени разлуку,
Но если ты упал и враг занес клинок…»
— И вы так спокойно об этом говорите?
— Хм… Знаешь, я прожил богатую жизнь… Здесь. Пожалуй, настала пора взглянуть — что там, в других мирах…
«Они помогут встать и остановят руку
Разящего врага, и взгляд их будет строг».
Я молчал. Я не знал что сказать.
— Выслушай меня, мой мальчик… внимательно.
— Я слушаю, Профессор.
Он прикрыл глаза. Затем медленно заговорил:
— Человек рожден чтобы радоваться… Радоваться. И по жизни лучше идти от радости к радости, цепляться как за перекладины лестницы… подтягиваться в завтрашний день…
Из кухни металлическое позвякивание, приглушенный разговор.
— Многим лестницей служат повседневные мелочи, заботы-хлопоты. Рутина тоже переносит в «завтра»… Но лучше все-таки радость. – Он устал говорить. – Это важно… Ты понял меня, мой мальчик?
— Да, Профессор… да.
«А время промелькнет так суетно, так странно,
Последнее «прощай», последнее «прости».
Придет и наш черед безмолвно, неустанно
Глядеть идущим вслед и их хранить в пути»…
…Сразу за кладбищем парк культуры и отдыха. Сейчас все поменялось, а прежде за атракционами начинался отлогий спуск — по асфальтовой дорожке, потом тропой между деревьев, по мостику через овраг — к берегу Казанки. Ночью там бродили парочки, пахло речной водой и водорослями, с противоположного берега мигали огоньки.
Макаревич пел:
«Наливай, нет причин для грусти.
Нам еще не назначен срок.
И еще не умолкли гусли,
И пока не нажат курок…»
Маленький сквер перед хореографическим училищем. Если остановиться, можно услышать из распахнутых окон: «И – раз, и – два, и – три, фу-э-те…»
Улица Карла Маркса, старинная и узкая, дальше площадь Свободы. Притормаживаю у «зебры» — дорогу переходит молодая пара с коляской. Выезжаю на Лобачевского.
«И еще какие-то люди
Вспоминают, поют и ждут.
Я один, словно хрен на блюде, —
Все промчалось, как пять минут…»
Каменная арка у Черного озера. Если встать у основания и шепнуть в ложбинку, на другом конце дуги все хорошо слышно. Здесь часто развлекаются парочки.
Слева бывший пивбар «Мутный глаз». В нем собирались неформалы – панки, хиппи, пацифисты… Мы с пацанами приходили сюда драться и отрабатывать удары. Когда от твоего хлесткого крюка падает живой человек, испытываешь другие чувства, чем в работе со снарядом. И они валились… ватно-пьяные, неумелые… Среди уличных бойцов это называлось «месить мясо».
«И ни с кем не в любви, не в ссоре,
И уже не держа весла,
Я почти потерялся в море
Умноженья добра и зла…»
Сворачиваю на Кремлевскую. Слева на полквартала главный корпус университета. Альма-матер. Перед центральным входом знаменитая «сковородка» — круглая площадка с памятником выпускнику универа Владимиру Ульянову. Мы пристраивали ему в руки бутылку шампанского, и туристы очень удивлялись, особенно иностранные.
Не спеша еду мимо здания верховного суда, Александровского и Чернояровского пассажей в сторону Кремля. «Керман» — так когда-то называлась эта крепость. Открывается вид на башню Сююмбике, что падает, падает вот уже три столетия…
«Я носился, как лошадь в мыле,
В суете, словно в пустоте,
Я любил и меня любили,
К сожаленью, совсем не те…»
Разворот, спуск по улице Чернышевского. Пивной бар «Бегемот». Говорят, с высоты птичьего полета здание напоминает силуэт бегемота. Наверно, я уже не проверю – правда это или нет…
На другой стороны улицы «Грот-бар». В нем мы сидели с Алексом после его возвращения из зоны. Он рассказывал и покручивал в руке четки, а я вглядывался в обострившееся лицо и видел в глазах что-то незнакомое. На правом предплечье у Алекса появилась наколка «ЗОЛОТО». «Что это?» — спросил я. Он ответил: «Запомни, Однажды Люди Оставят Тебя Одного».
«Наливай, что еще осталось,
Запах листьев, осенний свет.
И, как дохлый хорек, усталость,
И надежда, которой нет…»
Пересекаю Профсоюзную, подъезжаю к улице Баумана. Пешеходы не спешат, и я продвигаюсь черепашьим ходом. Рядом кинотеатр «Татарстан» — до революции синематограф «Аполло», затем «Электра»… Здесь я впервые поцеловал Настю.
Мы смотрели фильм «Ягуар» про латиноамериканское военное училище. Когда мальчишку-курсанта убили выстрелом в спину, я мельком взглянул на Настю и заметил на ее щеках слезы. У меня защипало в носу, я наклонился и прикоснулся губами к ее щеке… затем и к губам.
Вон там, на Правобулачной, ее дом.
«Этот мир не так уж чудесен,
Не щадит никого из нас,
И прошу вас, не надо песен,
Если можно, поставьте джаз»…
…«Не провожай меня, Фиш, опять ведь пристанут!» — «Ничего, Настя, я уже с ними подружился», — отвечал я. Парни из ее двора расступались, я кивал – «Привет», они отвечали — «Здорово». Я доводил подружку до подъезда, целовал, и возвращался той же дорогой. «Ну что, фрайер, опять ты в нашем районе?» — «Базар пропустим, пацаны, — говорил я, снимая куртку. — Я готов, погнали…»
Вдоль пролива Булак уже включили фонтаны. На мосту притормаживаю посмотреть на подсвеченные струи, но сзади нетерпеливо сигналят.
Сворачиваю на улицу Володарского. Дом довоенной постройки с серым фасадом и полукруглой аркой. Если пересечь внутренний дворик, слева будет подъезд с лестницей на второй этаж…
«Я Фиш». — «Фиш? – переспросил вор по кличке Сандро. – Фиш… Может быть — Хаш? — Он засмеялся одним ртом. – Ну проходи, посмотрим на тебя…»
Справа тарелка цирка, впереди – железнодорожный вокзал. На светофоре поворачиваю, еду по Саид-Галеева мимо стадиона.
«Дикие времена настали!.. – говорил Сандро, разливая водку по стаканам. — Раньше зэк, за которым один жмур, считался в зоне уважаемым человеком. А сейчас? Заходит в «хату» пацан – бакланье, первая ходка, а на нем – четыре трупа! Из «калаша» зашмалял. И как, скажите, к нему относиться? – Он чокается, выпивает, закусывает тушенкой, выгребая ее из банки хлебом. — И ничего такой не уважает, нет для него ни понятий, ни авторитетов. Совсем безбашенная молодежь пошла. Вот ты – объясни обществу, нахера вы Чичерю положили?..»
Залив. Пацанами мы торчали на пляже все лето – купались и дурачились. А повзрослев, приходили сюда с девчонками — целоваться и пить яблочное вино под скособоченными грибками.
Выезжаю на Кировскую дамбу, чтобы, сделав круг, вернуться обратно. К улице, с которой когда-то начинался арестантский путь в Сибирь.
«Нашим лодкам не встретиться, видно, никак.
Унесло за большие дела, за беду.
Я с почтовыми рыбами шлю тебе знак,
Что по-прежнему жив и пока еще жду».

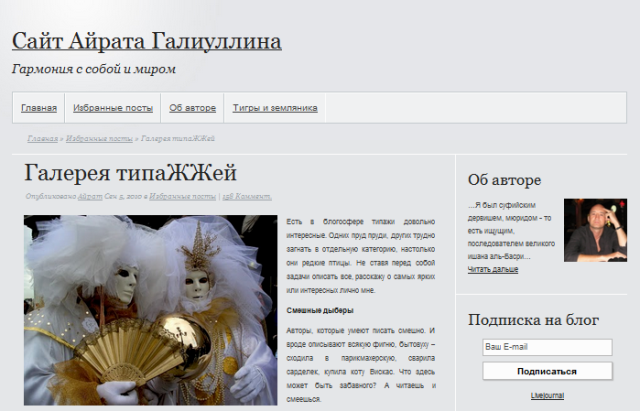
Последние комментарии